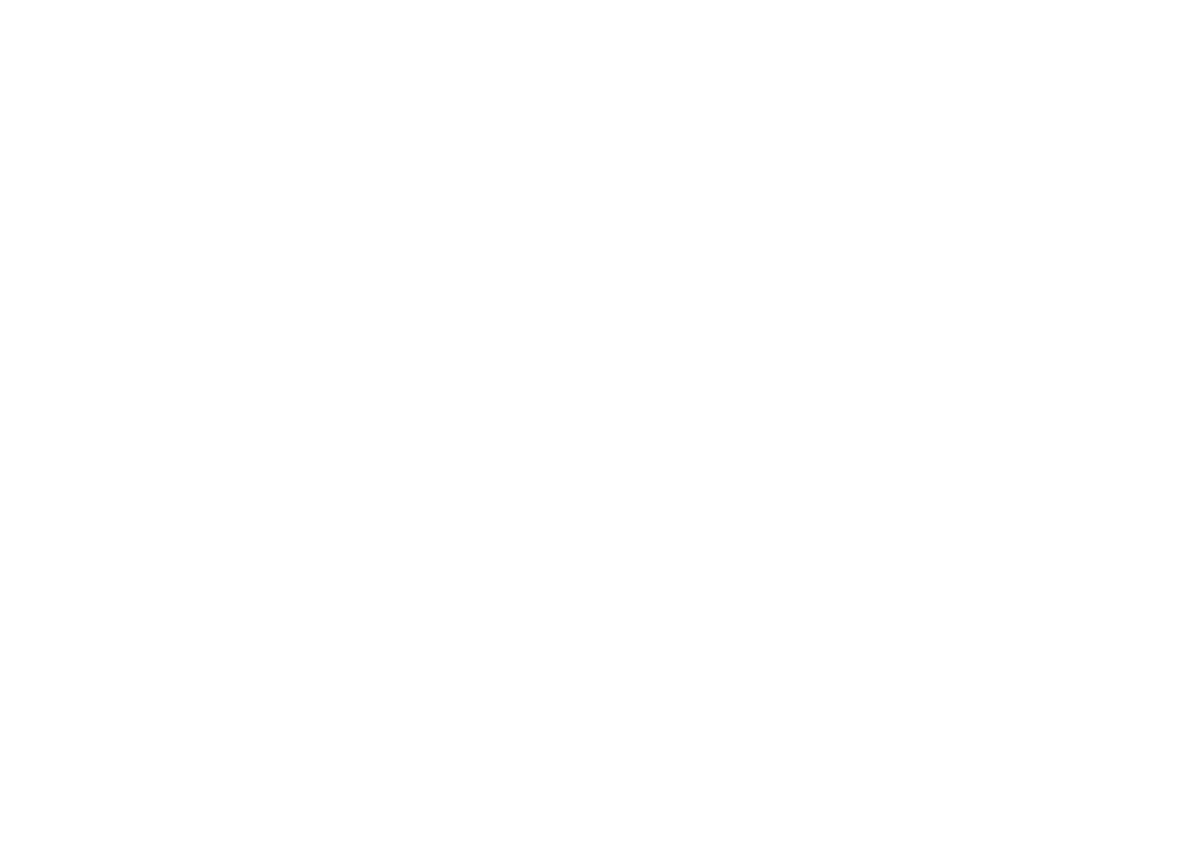Малая Родина в письмах
Публикуются главы из диплома "Малая Родина в письмах".
Незаконченная книга представлена в художественно-публицистических письмах об истории мещерского села Ижевского, расположенного в Рязанском уголке нашей России. Село имеет интересную историю в книгах, фотографиях, в уцелевших старинных постройках и надгробиях. Однако, мои письма остановились на рубеже двух веков - девятнадцатом и двадцатом. Надеюсь, что в скором будущем на сайте будут представлены письма с историей жизни моего родного и многострадального села, разделившего судьбу России. Итак, знакомьтесь в письмах с моей малой родиной. Именно с нее начинается любовь к семье и к человеку, к родному краю и к Родине, а, значит, к России и к ее истории.
Малая Родина в письмах
Письмо Второе.
Здравствуй, мой дорогой друг!
Жаль, что не получаю твоих писем, но это не останавливает меня писать свои. Мое желание рассказать о нашем старинном селе невозможно остановить. Припоминаю, что когда-то ты увлекался историей. Правда, ты почти никогда не выезжал из Ленинграда, только на море. Когда-то ты делился своими впечатлениями от незабываемого путешествия по Крыму. Да, удивительны крымские места: богатейшее видовое содружество флоры и фауны, горные пещеры, украшенные внутри сталактитовыми сосульками и бахромой, волнующиеся море с бегущими белыми барашками, подводный мир которого скрывает множество загадок для человеческого разума. Эти теплые морские края не перестают удивлять и меня. Каждый раз уезжая из Крыма после кратковременного отдыха, я вновь мечтаю приехать, чтобы увидеть любимое Черное море и манящие красотой и величием Крымские горы. Поэтому всегда расставаясь с ними, говорю: «До свидания море, до свидания горы! Я еще вернусь, ждите меня!» Однако, друг, я слишком отвлеклась, извини.
Сейчас я вспоминаю, что когда-то ты поделился своей мечтой побывать в деревне, жизнь которой идет размеренно и неторопливо. Ты написал, что хотел бы увидеть русскую печь, самовар, лапти. Ты захотел увидеть Мещерский край, о котором столько всего интересного находил у К. Паустовского, С. Есенина и других русских писателей.
А несколько лет назад ты читал об одной глухой сибирской деревушке. Ее историю записывал местный чудак, и тебе вдруг стало любопытно взглянуть на подобные сочинения. Поэтому, я думаю, тебя заинтересуют мои письма, рассказывающие о моем родном селе Ижевском.
Знаешь, я скучаю по селу и даже вижу его во сне. Как видит во сне одна из моих однокурсниц море, на побережье которого она родилась, свой любимый город, где прошло ее детство. Размышляя об этом, невольно начинаешь понимать, что каждый из нас прирастает корнями души к тому месту, где родился, вырос, ходил в школу, сочиняя по дороге свои первые стихи; где гулял по лесу, здороваясь с каждым деревом, травинкой, пташкой; где впервые влюблялся и разочаровывался, где мечтал и свободно, беззаботно жил под теплым крылышком родителей.
Горько сознавать, но когда приезжаешь домой после долгой разлуки, то находишь село все в большем запустении. Лишь летом оно немножко преображается. А ведь село наше старинное, о чем я писала тебе раньше. Прямые длинные улицы, разделенные переулками, чем-то напоминают секторную планировку, знакомую вам, петербуржцам. Старая часть застроена бело-красными кирпичными домами с высокими окнами в узорчатых наличниках. Многие усадьбы обнесены глухими деревянными заборами. В некоторых дворах стоят старинные амбары для хранения зерна, наверно, вспоминающие иногда своих первых хозяев; растет сад, перед домом разбит палисадник и посажен огород. Более молодая часть села выглядит как поселок городского типа: несколько многоэтажных домов, молочно-консервный комбинат, котельная с высокой серой трубой, олицетворяющая собой двадцатое столетие. Когда я подъезжала к селу в 80-90 годах двадцатого века, то первое, что можно было увидеть за редкими деревьями посадок - это дымящую верхушку заводской трубы. (Теперь заводская труба не дымит, потому что завод не работает. Смотря на разрушающиеся с каждым годом цеха завода и главное здание АБК с мозаикой космонавта на фасаде, я вспоминаю свое интересное детство, юность, молодость и первый опыт работы в библиотеке профкома «ТОО Ижмолоко», хотя начиналась моя трудовая деятельность в Доме пионеров (кстати, старинное здание которого уже снесли). Однако, я отвлеклась. Теперь, въезжаешь в село по хорошо асфальтированной дороге. Ее отремонтировали совсем недавно и тебя встречает высокая вышка. В темноте она светиться красными огоньками. И если пофантазировать, то из она чем-то похожа на дочку Эйфеливой башни, которую мне бы хотелось увидеть, побывав в Париже). Наверное, приезжай мы в село в девятнадцатом веке, перед нами бы открывалась иная картина: с размытой, непролазной дороги, где «вязнут спицы росписныя в расхлябанныя колеи», виднелись бы купола и колокольня Казанского храма, а при въезде - поля и пустыри (большая часть которых застраивалась в двадцатом столетии).
Когда-то село процветало, а теперь...
Что мы видим? Что мы оставим после себя нашим потомкам? По каким памятникам литературы, архитектуры, музыки они будут узнавать о нашем времени? От языческой Руси осталось многое, что на сегодняшний день объединяет в себе наша культура, глубокое исследование которой ещё предстоит. Христианство принесло на нашу землю не только памятники письменности, но и красивые, величественные храмы, а также многие значительные произведения искусства, до конца не оцененные современным поколением? А что же оставим после себя мы? Неважно, где: в селе или в городе, в деревне или на маленьком затерявшемся в сибирских лесах полустанке. Что расскажет о сегодняшней современной жизни будущим поколениям, которые родятся через сто, двести или пятьсот лет? Или наша цивилизация погибнет?
Может быть, ты возразишь, найдя ответы на все мои вопросы. Скажешь, что не все в действительности архиплохо. Станешь перечислять произведения культуры, достижения науки, созданные Человечеством двадцатого столетия. Наконец, взглянешь на одинокие колокольни, полуразрушенные храмы и зарастающие кладбища, - как бы остатки разрушенного Вавилона, доживающие свой длинный век. Безусловно, кое в чем я соглашусь с тобой, но...
Умирает провинция, уезжает в города молодежь, погибают деревни, сиротеют оставленные дома, пугающие взглядом ослепленных окон и глухим эхом, раздающимся в пустынных стенах. Что останется от сел и деревень через пятьдесят, сто, триста лет?
Грустно и уныло смотреть на ветшающие дома, завалившиеся облезлые заборы, на стареющие лица стариков и старух.
Тебе не кажется, мой друг, что наши села, деревни, провинциальные города загадочны и неповторимы своей историей, архитектурой и людьми.
В нашем селе, к примеру, два века назад стояли две каменные заставы, и пять красавиц-церквей. Людей жило видимо-невидимо. Любили гулянья и веселья, знали много песен, в церковь на службы по воскресеньям ходили. Как заслышат колокольный звон, раздающийся в разных концах села, так спешат успеть в храм до начала литургии. Но и работать не ленились. Говаривали бывало: «Делу время, а потехе - час».
Прежде чем рассказать поподробнее об этих людях и о селе, хочу поделиться с тобой своими размышлениями. Может быть, они найдут отклик и в твоей душе?
Россия, Русь... Откуда ты берешь начало, откуда тянется твоей истории незримая река? Может быть, с маленьких сел и деревень, раскинувшихся по берегам петляющих, словно змейки, рек, мелеющих голубоглазых озер, окруженных полями, лесами, болотами?
Сколько таких селений разбросано, затеряно, запрятано на Руси!
Кажется, порой, вот-вот погибнет деревня, где от ветхости покосились и осунулись дома, одичали беспризорные сады и заросли огороды, где из жителей остались три старика и две старухи. Да нет, живут убогие деревушки, поскрипывая ставнями и калитками, тянется из труб поседевший дымок, перемигиваются огоньками окна по вечерам.
Много таких сел и деревень на Руси. Иные заснули на время, а, может быть, на века, решив маленько отдохнуть. Другие продолжают свой путь вместе с Россией. Словно старые клячи, тащат они на себе «тройку-Русь», разделяя с народом его судьбу, историю, жизнь.
Они, как люди, - живые, страдающие существа. Их прошлое неповторимо, но далеко не всегда память о нем сохранилась в устной или письменной форме. Порой, она теряется во времени, ускользающем в далекую страну вечности.
Их истории напоминают страницы непрочитанных и неразгаданных родословных. Лишь некоторые села и деревни помнят историю, затаившуюся в том или ином уголке нашей родины.
В средней полосе России есть дивный край - Мещера. Когда-то он утопал в лесах, тянущихся в древности на тысячи километров от Десны, Брянска и Чернигова до города Мурома на Оке. Теперь от могучего лесного пояса остались лишь зеленые острова. Но есть район, где пока сохранилась «грибная бабушкина глушь».
«Что можно увидеть в Мещерском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой...
В Мещерском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-«болтун» заблудившейся коровы слышен далеко... Но такая тишина стоит в лесах только в безветреные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам»6.
А что можно услышать в Мещерской стороне, кроме «гула сосновых лесов»? «Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей...»6 .
Но увидеть и услышать так мало может путешественник, который первый раз попал в наши заповедные места. С каждым днем этот край становится для него богаче и разнообразнее, милее и дороже сердцу. Для меня, родившийся и живущей в здешнем краю, он самый родной и любимый.
Мещерский край! Как ты прекрасен! Ранней весной ты стоишь в зеленом наряде. Твои густые леса, топкие болота вновь оживают, пробуждается к жизни каждый кустик; крошечная нарождающаяся травка всеми своими силами тянется из-под земли к солнцу. Из дальних странствий на твои затерянные лесные болота и озера-блюдца прилетают дикие гуси и утки. Чуть позже появляются комары, пчелы, оводы. И создается в лесу свой неповторимый фон: «Ши! Зу! Зу! Жу! Жи!...». Оживает лес, превращаясь в таинственное существо, раскрывающее зеленые терема для каждого человека.
Осенью ты одеваешься в золото. Величественно и гордо покачиваются сосны и ели, перешептываются березы и липы. Их царский наряд и величавая осанка напоминают о русских князьях и богатырях.
Тысячу лет тому назад Мещера представляла собой дикий и неприступный край. Считают, что когда-то здесь плескалось море. Потом, одно к одному, теснились озера. Старея, они превращались в болота. Сейчас Мещерский край - это болотистая низина с пахучими смешанными лесами, с затопляемыми по весне лугами, знаменитыми торфяниками и зыбучими «мшарами» - моховыми болотами.
Ока - самая полноводная река Мещеры. Ее весенние разливы напоминают то самое море, далекие берега которого уходят за синеющий горизонт.
Много на Мещере озер, ключей, затонов. Замутненной голубизной сверкает вода в луговых поймах. Большие и маленькие озера бывают запрятаны в густую чащу лесов. Обступающие их корабельные сосны, роскошные ели, дубы-богатыри, выглядывающие из воды причудливые коряги, словно сказочные лешие, русалки, болотные кикиморы, охраняют свое водно-лесное царство-государство.
Встречаются в Мещерском краю озера открытые с такими же светлыми, как они сами названиями - Святое, Великое, Голубое, Белое, но на удивление мелкие, зарастающие плетущимися по дну зеленовато-бурыми водорослями. Иногда они образуют извилистую цепочку, вливаясь друг в друга. Можно представить себе голубовато-зеленое ожерелье озер, звенья которого разбросаны среди лесов и лугов.
С древних времен на территории Мещерского края обитали люди. Это были финно-угорские племена рыболовов и звероловов - мордва, мурома, мещера. «Не боясь хищности людей, ни гнева Богов, они приобрели редкое в мире благо: счастливую от судьбы независимость, благодаря бедности и грубым нравам»4
В 12-13 веках происходило очередное передвижение народов. Славянские племена вятичей и радимичей шли с юго-запада - с земли киевской и северо-запада - со стороны Новгорода. На берегах среднего течения Оки эта колонизация захватила многочисленные племена Мещеры. Славяне-переселенцы дали им название «чудь». «Из истории неизвестно каково было соприкосновение этих двух народностей. Нужно полагать, что прежде чем началось житие между ними и ассимиляция, много было поломано мещерских голов»4. Напоминает о стародавних временах ругательная поговорка здешнего края: «родимец те изломай», возможно, сохранившаяся в сознании многих поколений людей на генетическом уровне.
В те далекие годы, скрывающиеся от нас за лесами веков, взаимоотношения между народами были дикие и грубые. Обычно сводились
они к тому - «кто кого побнет и кто кому дань даяше»4. Но случалось, что прилив славянских народов с правого берега Оки в мещерские дебри проходил мирно и дружелюбно.
Забравшись в густые леса, подальше от кочевых племен, которые иногда проходили по населенным местам правобережья Оки, мещеряки устраивали «полушалаши, полуземлянки, постепенно обзаводились домками - «ухожами». Затем замечали и делали доступными для сбора меда пчелиные дупла, устраивали «перевесила и ловы на зверя и птицу; расчищали тони на озерах, устраивали заби и езы на реках для ловли рыбы. Жены раскапывали гряды для посева и заводили огород»4. Жилось таким счастливым и свободным хуторянам, наверное, тяжело и невесело. С восходом солнца они начинали отвоевывать у природы новые для жилья и посевов земли, вырубая деревья, выкорчевывая пни; охотиться на зверя хищного и птицу дикую.
«Итак, лес кормил, одевал, грел... Лес встречал русского человека при появлении на свет и безотлучно провожал его через все возрастные этапы: зыбка младенца и первая обувка, банный веник и балалайка, лучина на девичьих посиделках, росписная свадебная дуга, гриб и ладан, посох странника, долбленная колода мертвеца и, наконец, крест на устланной ельником могиле.
Было бы неблагодарностью не назвать и лес в числе воспитателей и немногочисленных покровителей нашего народа. Лес научил осторожности, наблюдательности, трудолюбию... ».5
Постепенно занятые людьми места разрастались до больших селений. Когда владения их соединялись между собой, молодые юноши «умыкали» себе жен на совместных «игрищах» и уходили на новые, необжитые места, где занимали себе угодья по тогдашнему закону, «покудова их топор и коса хаживали»4.
Приблизительно в это время появляется подобное селение на берегу одного из мещерских озер. В древности его окружали леса и топкие болота. Теперь с высокого берега открывается великолепный вид на необозримые луга, убегающие в даль перелески, а у самой линии горизонта виднеется голубовато-белая живая стена мещерских лесов.
Называлось озеро Ижва или «старая вода». С годами название изменилось. Ижевским оно зовется сейчас, как и село, протянувшееся вдоль одного из его берегов.
В детстве я слышала историю, связанную с названием озера и села. До сих пор помню из нее, что наше озеро имеет такое название, потому что похоже на извилистую речку, напоминающую старославянскую букву ижицу. Спустя годы, я встретила загадочную ижицу на страницах учебника по старославянскому языку. «Неужели наше озеро напоминает подобную излучину, чем-то представляющую собой маленькое ярмо или древнерусскую рогатину?»,- подумала я. Что ж, может быть, так оно и есть. Тогда же, в детстве рассказывали, что над озером и селом летал самолет, с которого фотографировали местность. Потом по этим снимкам составляли топографическую карту нашего района. Как выяснилось после скорпулезного изучения фотографий, озеро действительно имеет очертания старославянской буквы.
Ижица, «ижва», Ижевское — любопытное фонетическое благозвучие.
Очевидно, что Ижевское появилось задолго до прихода славян в среду коренных жителей, у которых уже тогда существовал свой язык, своя вера, обычаи и порядки. Дмитрий Иванович Иловайский в «Истории Рязанского края» причисляет эти «языки» к финскому племени. Подтверждением тому служат сохранившиеся типичные наименования речек; Ушна, Вегуч, Веркус, Кунтель; озер: Вынтус, Вищерга, Ниверга; урочищ: Шушкар, Тюрхань. По одной из этимологических версий и название «Оки происходит из финских языков: «йокки» - река»9.
Перелистывая страницы истории, остановимся на 10-11 веках - образовании «Рязанской земли» со столицей Рязанью на правом берегу Оки, в сорока верстах от Ижевского. В.Белинский, проезжавший в 1829 году мимо Старой Рязани, и пораженный красотой увиденного, написал: «Какие пленительные и, можно сказать, единственные виды представляет Старая Рязань со своими окрестностями!.. О, с каким восторгом, с какой радостью, стоя на помянутой крутизне, я обозревал сии восхитительные виды! Эти места достойны, чтобы на них стоял столичный город».
В 12 веке ратные люди рязанской земли легко покоряли местные племена и облагали их данью. Скорее всего, доходили они и до Ижевского, местное население которого, наверное, сопротивлялось, потому что жило свободно и независимо.
Позже сама Рязань подвергается разорению татарами. «И стал воевать царь Батый окаянный Рязанскую землю, и пошел ко граду Рязани. Осадил град, и бились пять дней неотступно. Батыево войско переменялось, а горожане бессменно бились. И многих горожан убили, а иных ранили, а иные от великих трудов и ран изнемогли. А в шестой день спозаранку пошли поганые на город - одни с огнями, другие со стенобитными орудиями, а третьи с бесчисленными лестницами - и взяли град Рязань месяца декабря в двадцать первый день. ...И не осталось во граде ни одного живого: все равно умерли и единую чашу смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего - ни отца и матери о детях, ни детей об отце и матери, ни брата, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мертвые. И было все то за грехи наши» .
А что же наше Ижевское? Что же сталось с ним? - спросишь ты, мой друг. Дошли ли татары до него, чтобы сжечь и разграбить, а оставшихся в живых жителей увести в рабство? Нет, оно продолжало жить в тиши лесов. Может быть, его могучие «зеленые стены» запугали татар, привыкших воевать на открытом пространстве. А, может быть, быстрое течение Оки - водной преграды, не допустило варварские племена на левый берег, откуда рукой подать до Ижевского.
Существует легенда, что некий Кис - предводитель одного татарского войска совсем близко подошел к одному селению, недалеко находившемуся от Ижевского. Но, постояв на правом берегу Оки, так и не решился перейти реку, чтобы разграбить село. За это местные жители прозвали его трусом. Так и кричали ему вослед с высокого берега: «Кис, трус! Кис, трус!».
Селение потом стали называть - Киструс. Возможно, оно сложилось из тех самых двух основ: Кис, трус.
Лишь набеги соседних племен иногда докатывались до ижевлян, жизнь которых шла своим чередом. Село, видимо, не подвергалось разграблению соседними народами. Во всяком случае, исторические сведения, рассказывающие об этом, не сохранились.
А время бежало вперед. Один год тянул за собой следующий, соединяясь вместе в могучие, необратимые столетия.
На горизонт истории взошел 1387 год, когда в жалованной грамоте Рязанского князя Олега Ивановича епископу Феогносту он написал о занятиях ижевлян, которые «били бобров на себя и на владыку» на реке Истоке. Название речки в последствии изменилось, теперь это Штага. Далее князь напомнил о «владычнем селе», настоящем Санском, которое стоит на крутом берегу Оки и окружено сосновыми лесами. До него двенадцать верст от Ижевского. Этот берег еще сохранил свое зеленое убранство, напоминающее нам о глухих и непроходимых лесах Мещеры.
Но история не стоит на месте. Время гонит историческую телегу вперед. Сквозь густые заросли светлых и темных веков пробирается ее умелый возница.
Ты заметил, что время в тысячу раз убыстрило свой бег по сравнению с предыдущими столетиями. Оно растворяется в пространстве, словно в зыбучем песке пустыни.
Невозможно удержать космического полета времени. Как метеорный дождь, оно выбрасывает на землю свои года. Мы не успеваем считать их. Года пролетают в человеческой жизни со скоростью минуты. Только разогнался народившийся год-юнец, как эстафету принимает следующий. Так продолжается с сотворения мира. Время устремляется дальше и дальше, словно поезд бегущий на свет в конце туннеля, уносится оно в загадочное мироздание будущего.
Последуем же за ним, за его могущественной рукой, рисующей нам иное столетие, иную эпоху.
Итак, в конце 15 века «рязанской землей владели два родных брата Иван и Федор Васильевичи; первый, как старший, назывался великим, второй удельным».3 После смерти одного из князей по договору 1496 года нельзя было отдавать удел мимо брата, если тот был бездетным. «Но они не предусмотрели... того случая, когда один из них умрет, оставив детей, раньше бездетного братаяЗ Так оно и случилось в Рязанской земле. Старший брат Иван умер первым и оставил после себя сына, которому и должен младший брат после своей смерти передать удел по оставленному завещанию. Но Федор поступает иначе. Он, пользуясь недосмотром или намеренной недомолвкой, без всякой хитрости и злого умысла отказывает свой удел великому князю московскому, своему дяде по матери.
Возможно, поэтому наше село в 16 веке принадлежало боярину Дмитрию Ивановичу Годунову, состоявшему на службе у московского князя. Несомненно, что Дмитрий Иванович был родственником Бориса Годунова.
Позднее, после падения Годуновых, их поместья перешли к боярину Шеину. Но неизвестно, к какому именно. Может быть, к Михаилу Борисовичу, боярину и воеводе, который возглавлял Смоленскую оборону 1609-1611 годов, а с 1619 года был доверенным лицом Филарета и главой ряда приказов. Интересно, что фамилии этих двух владельцев Ижевского не распространились в селе. Не осталось почти никаких следов от их потомков или наследников, которые могли после них жить во владении.
Как трон и скипетр в смутное время передавались из рук в руки, так и владения, после ухода одного царя-батюшки переходили к иным владельцам, приближенным нового правителя Руси. Так велось испокон веков.
Еще раз повторюсь: мне кажется, что каждое селение, как человек, живое существо. Его история, судьба, жизнь сродни человеческим судьбам. В биографии села есть все то же, что и у человека: рождение, становление, как формирование личности, испытание, старение. Человек еще чувствует; страдает, злиться, любит, жалеет. Все это живет и в селе - душах и сердцах жителей. А отражается на его внешнем и внутреннем облике, напоминающим человеческий организм, в котором с помощью современных средств диагностики выявляют больные органы.
Если любви мало в селе, то оно похоже на больного человека, бледного и слабого, напоминающего иногда засыхающее, покореженное дерево. В любой момент оно может упасть и умереть. Подобное случается с селами, деревнями и с оставленными хуторами. Сколько их умерло в России! А сколько болеет и тихо, медленно движется к неизбежному концу! И только любовь, которая не может поместиться ни в комнате, ни в переулке, которая похожа на сердечный костер, который согревает и поддерживает жизнь всего живого на земле, способна вылечить и больного человека, и увядающее деревце, и слабеющее с каждым годом родное село.
Наверное, теплиться в сердцах ижевцев подобный костер, поэтому мое родное и дорогое сердцу Ижевское, еще живет и дышит, только тяжелы временами его короткие вдохи и медленные выдохи. Долог ли его век, мы не знаем, как не ведаем и своего конца. Хотелось бы верить в его будущее, в любовь потомков, которая станет сильнее нашей. Может быть, родится необъяснимое чувство, неведомое нашим душам, оберегающее село от разрушения, преждевременного старения и умирания.
Однако, мой друг, позволь прервать моим размышлениям о будущем. Замечтавшись, можно далеко уплыть: в иное время, в иные миры, в иные жизни, даже в иное измерение, но нам нужно вернуться в давно минувшие столетья. Продолжим свое путешествие по запыленным страницам прошлого, но только в следующем письме.
До свидания, мой друг!